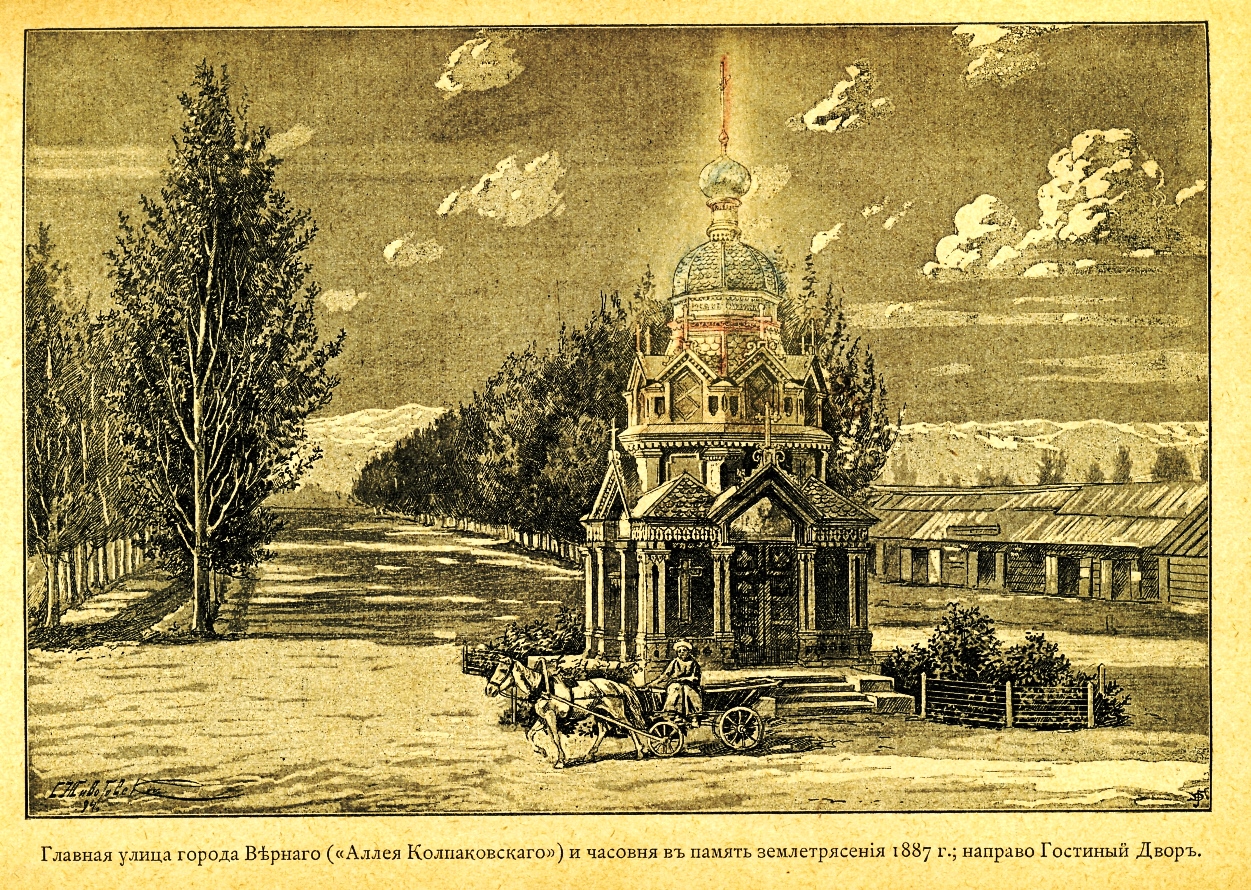Битва при Узунагаче между двумя наиболее мощными государствами региона (Российской империей и Кокандским ханством), интересы которых столкнулись в Заилийском крае, более важна для истории, нежели для ратного дела. Октябрьская баталия 1860 года близ юного укрепления Верное, по мнению многих специалистов, имела важнейшее значение для всей дальнейшей судьбы Казахстана и Средней Азии. Если бы тогда победили кокандцы, то все дальнейшее могло сложиться здесь совсем иначе.
Расчеты подполковника Колпаковского
Не считая нескольких локальных стычек, генерального сражения между кокандцами и россиянами не происходило. До осени 1860 года, когда огромное воинство под командой ташкентского правителя Канаат-ша (Канагатшах, Канагат-парванши) выдвинулось из Чуйской долины через Кастекский проход. С единственной целью – одним ударом покончить со всеми проблемами. Уничтожив укрепление Верное, все имеющиеся в крае вооруженные силы врага, пришлое население и само воспоминание о русском присутствии за рекой Или.
О приближении неприятеля в Верном узнали в начале октября. «Начальник края» подполковник Герасим Колпаковский начал спешную ревизию имевшихся под его командой сил – на помощь из Капала и Семипалатинска рассчитывать не приходилось, она при любом раскладе не успевала.
Мизерность российского воинского контингента в Заилийском крае вселяла тревогу. И заставляло обратить взор на новых подданных – семиреченских казахов Старшего жуза. С кем они? Понимая, что их лояльность России – во многом вынужденная, Колпаковский надеялся лишь на то, что они сохранят нейтралитет в предстоящем «деле».
Вот что писал по этому поводу в своих воспоминаниях один из «туркестанцев», генерал-лейтенант Д. Г. Колокольцев:
«Внезапное поднятие орды всего более должно было поразить Колпаковского при его всегдашней осмотрительности и осторожности, тем более, что ни один из так называемых мирных туземцев, имеющих сообщение или сношение с крепостью, и не помыслил его предупредить о том, что в дальних степях все поднялось: иначе он заранее мог бы послать гонца в Капал, а оттуда в Семипалатинск. Но видно, что в степях творилось все за одно, секретно, и что эти мирные должны были оставаться мирными только до известного времени; зная, как велико скопище, они выжидали, будучи обнадежены силою нападающей массы, совершенно освободиться от русских и может быть навсегда, ибо они очень хорошо знали, что вследствие внезапного и неожиданного нападения, крепости получить помощи не было откуда, ибо Капал от Верного более, чем в 300 верстах расстояния и при том, в Капале было мало войск; а Семипалатинск от Верного 700 верст. Следовательно, при малейшем перевесе со стороны набега, нет сомнения, что так называемые мирные туземцы довершили бы разгром крепости Верной!»
Расчеты Канаат-ша
Нужно сразу сказать, что, на казахов в этом сражении рассчитывали и кокандцы. По поводу замыслов Канаат-ша рассуждал искушенный в тогдашних делах П. Пичугин («Вторжение коканцев в Алатавский округ в 1860 году» Военный сборник, № 5. 1872):
Немаловажным фактом оптимизма считался тот, что в армии Канаат-ша казахи и так составляли определенную часть. Хотя точное число пришедших с кокандцами казахов определялось с трудом, но наиболее реальна была цифра в 4000 человек. («…Впоследствии число это значительно возросло, да прибавить еще несколько тысяч бродяг, тащившихся сами по себе за армией, и бродячие мелкие киргизские шайки, везде появившиеся в окрестностях…»)
И еще один важный в глазах всех казахов момент – джигитов Канаат-ша возглавляли сыновья прославленного Кенесары – Тайчик, Садык и Ахмет, состоявшие на службе у Коканда.
«Говорили, что во все роды Большой Орды разосланы воззвания — идти на неверных», – добавляет в своих записках известный путешественник Михаил Венюков, служивший в те годы в крае.
Расчеты казахов
Приближение кокандской армии, судя по всему, было ожидаемым и даже долгожданным для подавляющего большинства семиреченских казахов. По крайней мере, в начальной стадии развития событий они вполне оправдали ожидание ташкентского военачальника.
Колпаковский докладывал в Омск, по начальству:
«С крайним сожалением я должен доложить вашему высокопревосходительству, что дулатовские киргизы ведут себя более чем двусмысленно, а часть чапраштинцев, с бием Суранчи, открыто передалась на сторону неприятеля».
Пичугин добавляет:
«Все чапраштинские волости рода дулатовцев, кочующие западнее Верного, отложились и пристали к наступавшему кокандскому войску. Первыми передались бии: прапорщик Суранчи, которому несколько дней назад поручено было разведать о коканцах; Андас (ныне волостной старшина Кастекской волости, Верненского уезда.), с будбаевскою волостью, Дикамбай, имевший особенное влияние на умы кочевников, и богатый донанысовский киргиз Альдекен с волостью своей, вооружив, при этом случае, и снарядив, на собственный счет, разных бедняков. Всего изменило нам из дулатовского рода более половины, именно 5,000 юрт, на первое время приславших коканца, на подмогу более 1,000 всадников».
Молчаливые султаны
Все эти события вызывало тревогу у трезвомыслящего Колпаковского. Нужно было что-то предпринимать, и 15 октября он пишет письма «влиятельным адбановским султанам»: Тезеку Нуралиеву Аблейханову, (состоявшему в ту пору капитаном русской службы) и Джангазы Сюкову (состоявшему подпоручиком):
«Так как ваши адбаны всегда отличались преданностью и усердием перед другими родами, то я прошу вас, почтенный султан, по получении этого письма, назначить как можно более киргизов на самых лучших лошадях, имея в запасе и заводных, и отправить их сюда в Алматы как можно скорее и поспешнее с биями, кто пожелает, и с батырями. Цель вызова киргизов заключается в том, чтобы киргизы побили окончательно сартов, которые хотят опять придти к Кастеку, а на этот раз нам хочется, чтобы из них никто не вернулся за Чу, положив здесь свои кости. Но добыча от сартов достанется киргизам. Поспешите, султан, исполнить это как можно скорее и посылайте желающих побить сартов. Будьте здоровы».
Также Колпаковский попытался, с помощью брата Тезека, капитана Аблеса Аблиева Аблейханова, «вызвать в Верное сомнительных дулатовских и чапраштинских биев, чтобы иметь в них заложников».
То и другое осталось без ответа. Пичугин позже настаивал на том, что:
«Султаны Тезек и Джангазы Сюков, почти с неделю получившие письма Колпаковского, выжидали разъяснения обстоятельств: в волостях готовились подарки кокандским вождям и кочевники ждали с нетерпением первого успеха неприятеля, думая перейти реку Или и обрушиться на Верное. Партии адбановских разведчиков шныряли между Узун-Агачем и Верным, чтобы немедленно известить об успехе коканцев своих султанов и биев и возмутить киргизов поголовно».
Сам Колпаковский писал в Омск:
«Бии, которых я вызывал, не приехали под предлогом, что они опасаются в настоящее тревожное время оставить свои аулы. Только султан Аблес Аблиев, прапорщик Коджегул Байсеркин, Куат…»
Казахи выжидали.
Момент определения
Наспех укрепив Верное, в котором остались в основном обыватели, инвалиды и женщины, Колпаковский выступил к Узун-Агачу и Кастеку, так и не решив проблему ближайших тылов. И это тревожило. Зная расклад, он понимал, что спасти положение может только победа над Канаат-ша. Полная и безоговорочная. И такая победа ему досталась.

Узун-Агачское сражение. Картина В. Баталова и А. Ермоленко, 2013 год
Весть о бегстве Канаат-ша распространилась в крае мгновенно. Недаром участники тех событий вспоминали о большом количестве конных «зрителей», наблюдавших за ходом сражения с безопасного расстояния. Еще не остыли пушки, как настроение степняков стало меняться кардинально. «Откликнувшись на призыв», в Верное прибыл капитан Тезек Нуралиев. Пичугин так описывает его прибытие:
«Тезек, которого в обыкновенных поездках и выездках сопровождало всегда более сотни человек свиты, и который имел полную возможность собрать с волостей тысячу человек конных, «из преданности к правительству, на отражение бунтовщиков», привел с собою двадцать киргизов».
24-го октября раненый подполковник Колпаковский, убедившись в полной победе и бегстве неприятеля, прибыл в укрепление Верное. Пичугин продолжает иронизировать:
«Султан Джангазы Сюков и еще несколько киргизов, выдававших себя за друзей русских, явились к нему с поздравлениями и с предложением услуг. Прием был суровый».
Суровость имела свои причины – все султаны заилийских казахов считались не только подданными Российской империи, но и состояли, хотя и во многом номинально, на русской службе, получая не только чины, но и помощь от правительства в случае каких-то непредвиденностей. Генерал Колокольцев так описывал случившееся:
«Колпаковский всегда был человеком дела и серьезным; когда он вошел к ним в залу, он прямо запросил этим мирных: почему они не последовали за войсками, идущими защищать нападение на крепость Верную? И почему они его не предупредили, что в степях были сборища с целью сделать набег на крепость? И на их ответы, что они всегда готовы, Колпаковский возразил: «только не трогались с места»…»
Нужно сказать, что Колпаковский, несмотря ни на что, предпочел не усугублять ситуацию какими-то репрессиями. Тот же Тезек Нуралиев дослужился при нем до полковника.
После Узун-Агача колебавшиеся твердо знали на кого ставить…
Привет от Кенесары
Однако среди казахов встречались еще и непримиримые враги Российской империи, не желавшие никаких компромиссов. Когда дело было уже проиграно и кокандцы отступали, дабы задержать возможное преследование, Канаат-ша отправил к Верному отряд джигитов под предводительством султанов Тайчика, Садыка и Ахмета, славных сыновей Кенесары Касымова.
Вот что вспоминал позже один из участников этого марш-броска, султан Садык:
«Миновав Узун-Агач, … с манапом Шадманом и батырами Сауранчи и Байсеидом и отборными, молодыми, храбрыми джигитами из киргизов и кара-киргизов в числе 500 чел., пройдя день и ночь, залегли в засаде возле Верного. На другой день рано утром они произвели нападение на окрестности города и захватили в плен четырех русских мужчин и дочь одного крестьянина. К полудню они уже успели соединиться с датхами, оставшимися в Каргалы и возвратились к Кастеку. Оказалось, что войско Канагата парванши в тот же день ушло назад и что их послали к Верному с хитростью, с расчетом, чтобы русское войско не погналось за отступавшими».
Это был последний акт баталии, которая так много изменила во всей дальнейшей судьбе не только Семиречья, но и всей Центральной Азии.
Андрей Михайлов-Заилийский. Писатель, автор дилогии «К западу от Востока. К востоку от Запада» и географического романа «Казахстан»