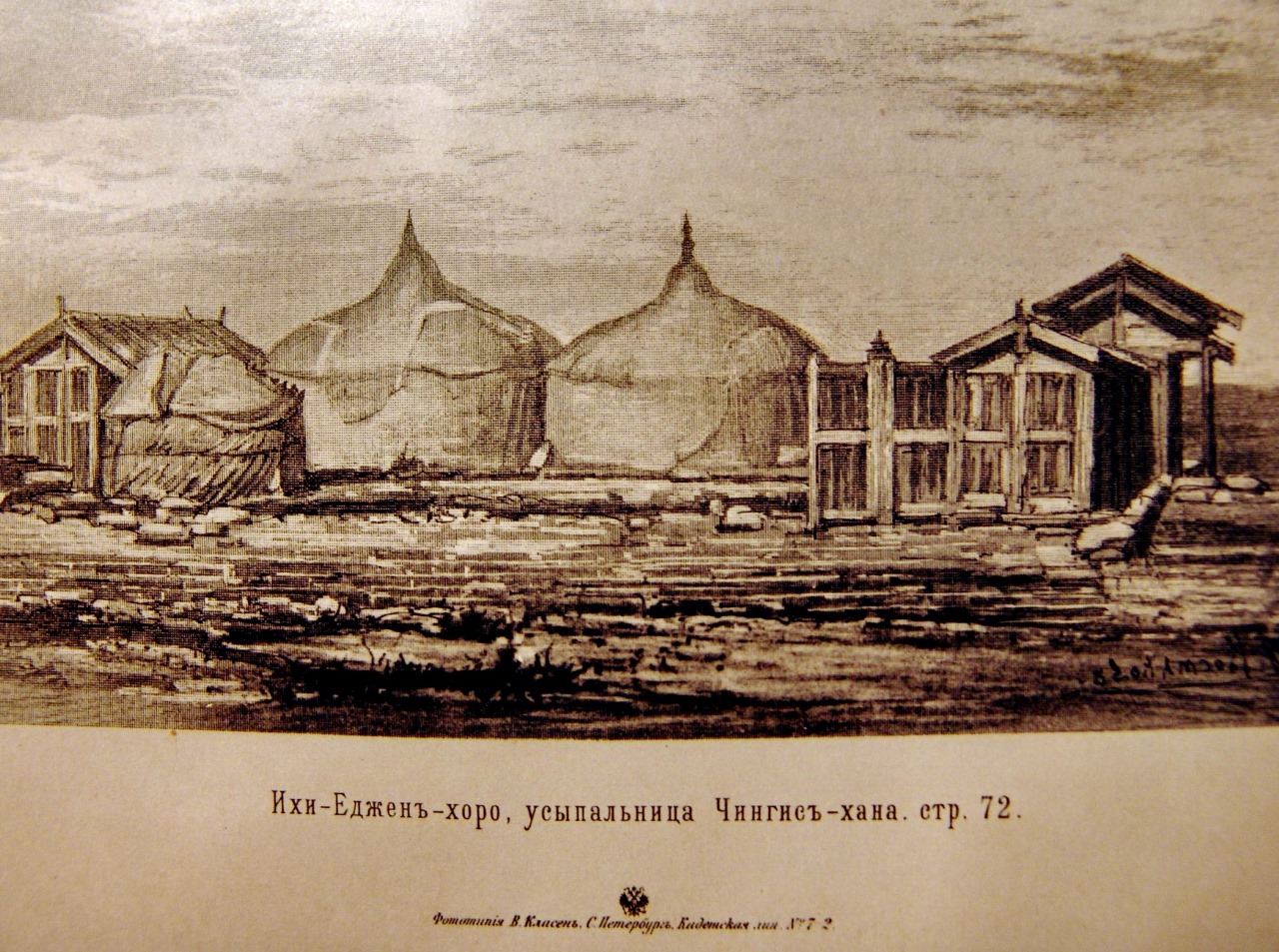Древние городища… Сколько же их разбросано ныне по югу Казахстана! Остатки городов и руины крепостных стен в долине Сырдарьи столь обильны, что давно стали обычной составляющей местных пейзажей. Если бы на мгновение во всех в них разом реанимировать жизнь, то мы бы стали свидетелями такого вавилонского столпотворения, какого не ведала Земля!
Но древние городища красноречивы лишь своим молчанием. Чтобы «разговорить» их, нужны титанические усилия, невероятная удача и дерзкое воображение. Ранние годы большинства этих городов-призраков вообще теряются в предрассветном тумане начала цивилизации. Конец… Конец – гораздо ближе к нам, но и о нем редко известно что-то определенное. Мы можем назвать лишь примерное время превращений городов в городища, общие причины запустения. Но вот сказать конкретно, кто, когда и почему последним оставил то или иное поселение – не способен ни один провидец.
Змей не виноват
После нескольких дней, проведенных в знакомстве с археологическими памятниками Южного Казахстана, человеку все чаще начинают сопутствовать идеи о некоей региональной катастрофе, о «конце света» в отдельно взятой части Земли.
Действительно, во время прогулок по едва обозначенным улицам мертвых городов, среди забурьяненных оплывин, бывших когда-то домами людей, промеж неясных бугров, усеянных костями, строительным мусором и черепками посуды, из которой ели и пили, которую били во время семейных скандалов, – возникает масса вопросов. Вся она, впрочем, легко сводится к одному единому.

А чего не жилось-то?
И правда, на фоне современных поселений, основную массу которых составляют волюнтаристские создания эпохи колхозно-совхозного строительства, такая масса развалин, среди которых и такие раскрученные как Отрар, и вовсе неизвестные широкой публике, наводит на самую простую и красивую мысль, – былая жизнь стала жертвой какой-то сиюмоментной катастрофы. Налетел с небес некий Змей Горыныч и разнес все к ядреной фене.
И как-то даже обидно, что в действительности все обошлось без всякого Змея и протекало гораздо прозаичнее.
Обреченное угасание
В отличие от Семиречья, куда «урбанистический конец» подкрался вместе с воинством Чингисхана, городская жизнь долины Сырдарьи возродилась после монгольских погромов, и даже расцвела еще более пышным цветом. Однако позже, под натиском непрекращающихся переделов и перекроев местного землеустройства наследниками Темучина, жизнь эта хирела и хирела, пока не захирела окончательно. Но это «охирение» не было мгновенным, а тянулось несколько веков.
К концу XVIII века последние жители оставили Отрар. Незадолго до того в мираж обратился Тараз. Попутно их судьбу разделили многие сотни других городов и городков региона. Без надрыва, очень прозаично и скучно.
«Частый переход присырдарьинских городов из рук в руки, отсутствие твердой власти, грабежи, продовольственные реквизиции у населения подорвали основу стабильного существования городов как центров ремесленного производства и торговли, их земледельческой округи, привели к начавшемуся застою городской жизни на юге Казахстана», – так резюмируют финал авторы авторитетных «Очерков по истории и археологии средневекового Туркестана».

Есть мнение, что процесс этот есть лишь следствие того исконного антагонизма, который со времен бузданий легендарного Турана и Ирана определял и ход, и облик местной истории: извечная борьба кочевого мира с оседлым. Известно брезгливое пренебрежение, с которым истинные номады, представители степной элиты, относились ко всем порождениям городской цивилизации. Очень часто города искусственно превращали в руины, а возделанные поля возвращали под пастбища.
Особенности Глиняного пояса
В представлении непосвященных, брошенные города – это обязательно руины. Может быть применительно к тем регионам мира, где строили из камня, это и верно. Но для «глиняного пояса» Евразии характерны не руины, а скорее холмы-тюбе (тепе, тели и т. п.). Хотя и тут встречаются удивительные по масштабам и дерзкие по сохранности развалины – но это скорее исключение, чем правило.
Многие вспомнят то странное сооружение, в котором культовый знаток Востока, канонический красноармеец Сухов рассуждал о важности труб в среднеазиатских делах. Это так называемый гофрированный дом – одно из замковых сооружений старого Мевра. Кешк (замок) Большая Кыз-кала. И руины, которые мелькают под «Белым солнцем пустыни» далее – это развалины одного из самых обширных городищ нашего «глиняного пояса» – Султан-калы. Еще более впечатляющие развалины мне удалось повидать в Синьцзяне – это турфанские городища Гаочан и Яр-хото.
Рядом с ними, по сохранности и масштабам, я бы поставил стены Саурана, древнего города, который когда-то прикрывал с севера Ясы-Туркестан и весь Отрарский оазис.
Сауран: пустота за стенами
Сауран как раз из тех городов, чей расцвет пришелся на послемонгольское время (XV - XVI века), хотя известен он был уже пятью столетиями раньше. В свое время город славился неприступностью своих укреплений, мечетью с «качающимися минаретами» и великолепным садом, вода для полива которого доставлялась уникальным для этих мест способом – с помощью подземных арыков-кяризов.

Некоторое время Сауран даже носил столичный статус ханов Белой Орды. Известно и то, что в какое-то время именно в Сауране посадил царствовать Тамерлан своего неблагодарного протеже Тохтамыша. Впрочем, как посадил, так и высадил.
XVI-XVII века – это уже века угасания Саурана. Хотя именно в это время Сабран – Ясырван неоднократно упоминается в «командировочных отчетах» русских купцов и посланников.
…Стены и башни древнего Саурана мелькают перед глазами пассажиров поездов самой первой в Туркестане Оренбург-Ташкентской железной дороги. Но гораздо интереснее приближаться к ним через степь. И чем ближе подходишь, тем больше проникаешься их величием и величиной. Сердце начинает учащенно биться от предвкушения зрелища, когда подымаешься к пролому в стене, с ожиданием увидеть и далее нечто под стать фортификации.

Увы, эти все еще могучие стены защищают ныне лишь 45 гектаров пустыря. И одни только глиняные черепки, которыми обильно усеяны эти гектары, свидетельствуют об истекшей отсюда жизни.
Никто не знает, какие сокровища сокрыты от взора под оплывшими буграми. Археологи ведь еще только подступаются к тайнам древнего Саурана. Одной их знаменательных находок последнего десятилетия стал клад медных монет, весом в 25 килограмм. Чем знаменательна эта «медь»? Происхождением – монеты отчеканены на Руси, во времена царя Алексея Михайловича, отца Петра Первого.
Андрей Михайлов-Заилийский. Писатель, автор дилогии «К западу от Востока. К востоку от Запада» и географического романа «Казахстан»
Фото автора