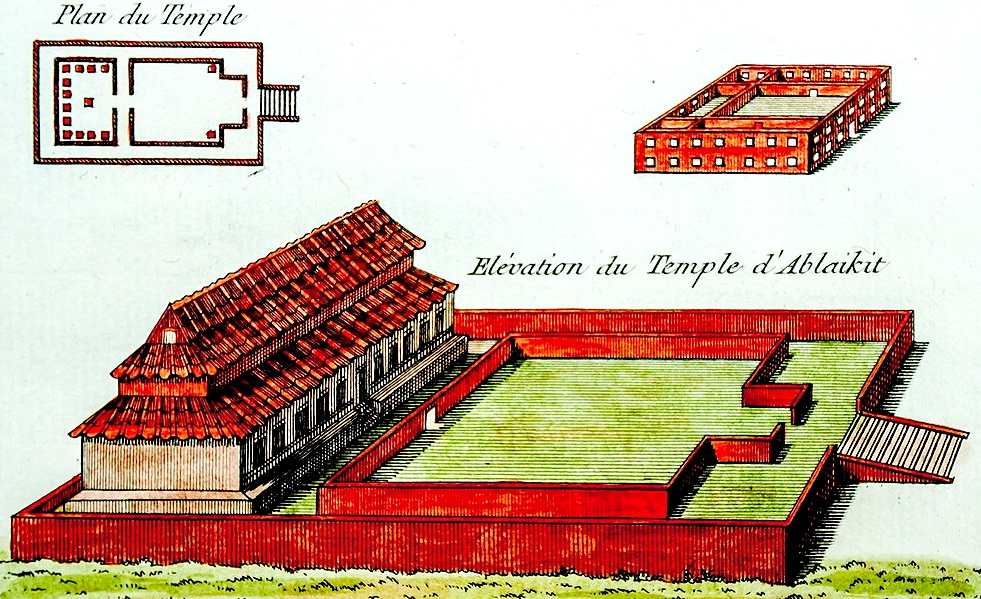Хребет Ешкиольмес, один из последних западных отрогов Джунгарского Алатау. Его абсолютная высота небольшая – всего 1300 метров, но сюда, в долину Коксу, он падает довольно резко, склон изобилует скалами, осыпями и крутыми ущельями, заросшими кустарниками и травами. Вот их-то, эти труднопроходимые кулуары, складки окаменелой шкуры допотопного дракона, мне и предстояло прочесать и исследовать в ближайшие дни.
Заповедник бессмертных козлов
Дело в том, что здесь расположено крупнейшее в Казахстане скопление петроглифов – наскальных гравюр. Самые древние из них дошли до нас от эпохи бронзы, того загадочного времени, когда по территории нашей страны продвигались откуда-то с северо-запада загадочные «арийские племена». Тогда-то и возникла «сакральная зона» Ешкиольмеса. Саки, усуни, гунны, тюрки, монголы и пр. – народы сменяли друг друга, но каждый из них обязательно притормаживал и причащался тут, у этого гигантского природного алтаря, приносил свои жертвы и оставлял свои священные знаки.
Так, за несколько тысячелетий, здесь насобиралось более 10 тысяч наскальных изображений! Хотя в том, что ныне найдены и описаны все петроглифы, никто не уверен – каждый год приносит новые открытия. Еще совсем недавно ученые про Ешкиольмес вообще-то знать не знали – например, в культовой книге советского исследователя Якова Шера «Петроглифы Средней и Центральной Азии», выпущенной в 1980 году, про него вообще-то не упоминается.

А, между тем, само название хребта говорит обо многом. Его можно перевести, как «Бессмертный козел» (или «Неумирающая коза» – кому что больше нравится). Так что, если подойти к топониму творчески – аллегория налицо. Ведь большинство местных петроглифов изображают именно козлов!
Застывшая Земля
...Раскинув вечером палатку на берегу Коксу, утром я приступаю к поиску. Встаю чуть свет и, наскоро позавтракав, начинаю взбираться по ближайшему отщелку к вершине хребта. По моему разумению, это безымянное ущелье, то самое, что обозначено номером 10 на схемах археологов. Оно-то и содержит в своих недрах наибольшее число ешкиольмесских петроглифов – почти половину из всех открытых на пятнадцатикилометровом участке гор.
Жарко. Несмотря на ранний час, скалы уже попыхивают жаром. Карабкаюсь, всматриваясь в скалы. В поте не одного только лица. Но стоит повернуть голову назад, как все трудности тут же растворяются ввиду разверзшейся панорамы животворной долины Коксу. Останавливаюсь. Напитываюсь картиной.

А когда, вдоволь надышавшись зрелищем, вспоминаю о своих поисках, отворачиваюсь к склону, тут же сталкиваюсь… с оленем. Изящное существо не замечает моего присутствия.
Некоторое время я, не шевелясь, смотрю на оленя. Боюсь «спугнуть». Потом делаю шаг, два, подхожу вплотную и осторожно притрагиваюсь к изысканно изогнутой шее.
Утонченное создание, выбитое на камне рукой неизвестного мастера, остается неподвижным и неподвластным. Сколько ему лет? Судя по ярко выраженному «скифскому» стилю, никак не меньше двух с половиной тысячелетий…
Привет от саков
Рядом с первым оленем я вижу еще пару. Тут же – вездесущие козлы. Какие-то напряженные персонажи с растопыренными руками. Нечто похожее на страуса. Я брожу среди безмолвных знаков и, чем больше нахожу новых, тем яснее понимаю, что это не главная часть святилища, не «ущелье 10» археологических схем.
Петроглифы тут не представляют чего-то особенного и, судя по характеру знаков, не самые древние. В основном это козлы да олени. По козлам трудно вообще-то определить возраст – их гравировали на скалах во все эпохи и стилистически изображения эти вообще-то мало изменялись по временам. Хотя здешние местами отличаются какой-то нежной кошачьей грацией. Олени же, откровенно изящные, с подломленными ногами – выдают эпоху ранних кочевников. Это знаменитый звериный стиль саков (скифов) во всей своей обыденной красе.

Считается, что и олени, и козлы символизировали у древних какие-то горние силы, их изображения связаны с культом Солнца и Неба. Что ж, логика в этом есть – и те, и другие, населяя склоны гор, казались жителям степей некими посредниками между Землей и Небом. Но это – наша логика, чем руководствовались пращуры никто достоверно не знает.
...Но я приехал в Ешкиольмес из города не для того, чтобы любоваться козлами – за свою жизнь я насмотрелся на них во всех видах. И хотя эти, наскальные, куда симпатичнее тех, что поминутно встречаются на городских улицах – они наиболее встречаемые персонажи всех петроглифов Глубинной Азии. Не они моя нынешняя цель.
Здесь, на берегах Берилловой реки, в складках окаменелой шкуры Поверженного дракона, я ищу изображения Солнечных колесниц, на которых «странствовали» когда-то по просторам Евразии загадочные «арии».
Однако солнце не милосердствует. Спускаюсь вниз, в тень и прохладу тугаев. Отдыхаю и снова карабкаюсь наверх.
Бег «космических колесниц»
…Прошла гроза. И сразу стало свежо и ароматно. И тихо. Грозовой фронт, словно огнедышащий змей, припугнув землю, ушел вверх по Коксу, оставив после себя сверкающую каплями траву и взбухшую, наполненную глиной и мусором реку.
И даже не верится, что пару часов назад я изнывал от жары и жажды наверху, на гребне Ешкиольмеса. И солнце вытапливало из меня последние капли влаги. И в глазах темнело от нестерпимого жара и хищного блеска черных скал. Сказалось напряжение вчерашнего дня.
День накануне дался нелегко. Я почувствовал это еще во время третьего «восхождения». Теоретически я мог бы выйти к петроглифам «ущелья 10» уже вчера. Но это вряд ли принесло бы радость встречи и свежесть восприятия.
Зато наутро, разобравшись наконец в местной орографии, я двинул наверх совершенно другим путем, по гребню. И вышел аккурат к месту – к загорелым скалам близ гребня, которые маячили впереди накануне. Они и оказались тем самым грандиозным скоплением 4000 петроглифов – центром всего Ешкиольмесского святилища.

Наконец-то я увидел то, за чем, собственно, приехал – «космические колесницы арийцев». Некоторые из них, такие же черные, как сами камни, выглядят ужасно древними в сравнении со «свежевыбитыми» конями древних тюрков и даже изящными оленями саков. Они настолько въелись в камень, что их сразу и не приметишь – нужно покрутиться, исхитриться и поймать такой солнечный луч, который высветит древние знаки из мутных глубин скалы.
Территория вопросов
Большинство исследователей связывает изображения колесниц с одной из самых волнительных и неясных страниц нашей истории – продвижением древней группы народов, условно называемых «ариями», «индо-ариями», «индо-иранцами» или даже «индоевропейцами». Это было первое зафиксированное историей великое переселение народов, потоки которого достигли Северной Индии и Ирана, Кавказа и Средней Азии, Европы и Русской равнины. Чтобы понять важность этого расселения, достаточно вспомнить, что сегодня, к индоевропейской языковой семье, относится чуть ли не половина человечества! Когда-то, возможно, существовало племя, забытый язык которого и дал начало всей лингвистической палитре индоевропейцев.

Мы знаем – куда они пришли. Мы предполагаем – как они двигались. Но мы ничего не знаем – откуда они вышли! И это, пожалуй, ни одна из самых, а самая жгучая тайна Евразии!
Вот почему, обнаружив изображения этих таинственных колесниц (весьма немногочисленные среди общего изобилия десяти тысяч здешних петроглифов), столь сложно оторвать взор и сделать следующий шаг. Необоримая тайна, неодолимо затягивает воображение и будит великую массу ассоциаций и вопросов, которые, скорее всего, так и останутся без окончательных ответов.
И разве можно найти что-нибудь более чарующее и достойное внимания, нежели такие вот послания от далеких предков, оставленных не для кого-то лично, а для всего человечества?
Андрей Михайлов-Заилийский. Писатель, автор дилогии «К западу от Востока. К востоку от Запада» и географического романа «Казахстан»
Фото автора