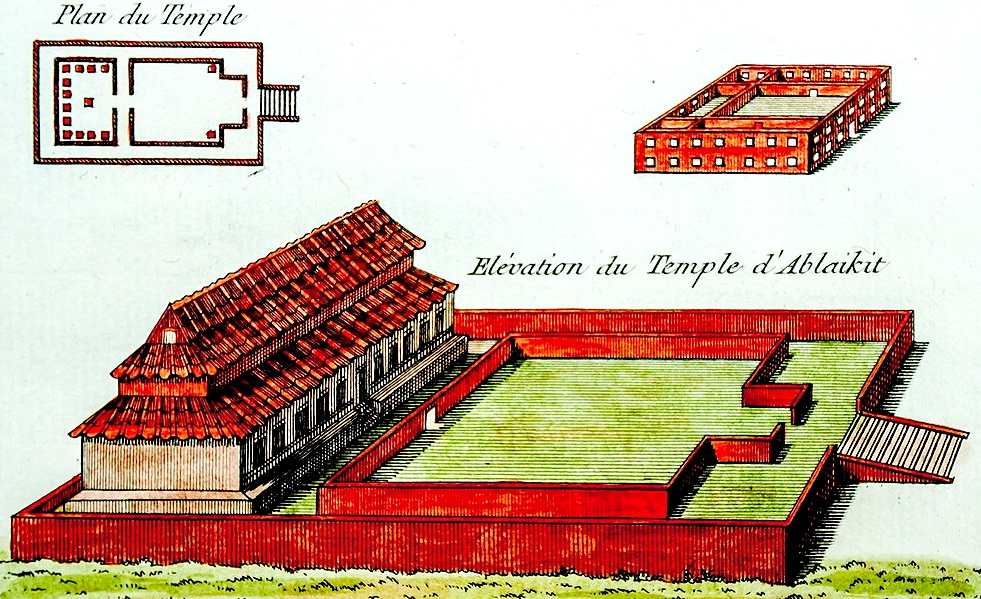Про Аральскую трагедию, приведшую к безвозвратному исчезновению одного из самых крупных озер планеты, вспоминают до сих пор. Хотя и без былого надрыва и пафоса. Но поминая величайшую экологическую катастрофу XX века, нельзя забывать о том, что она же является личной бедой и непоправимым несчастьем для великого множества людей. Живших на берегах, работавших в море, кормившихся Аралом.
Пассажир из прошлого
…Впервые я увидел Арал еще в школьные годы. Таким, каким видели его в те времена все, кто проезжал по Оренбург-Ташкентской магистрали в любую сторону. Мы с родителями отправились в Москву на знаменитой «восьмерке» – скором поезде, связывавшем столицу Казахстана со столицей СССР. И когда, после целого дня сухих степей, под вечер, впереди показалась уходящая за горизонт полоса ультрамаринового моря – это воспринялось с бурным восторгом.
В пересушенной зноем степи мирно бродили верблюды – «корабли пустыни», а совсем рядом, в бухте Аральска, рядом с громадными портальными кранами, стояли корабли самые что ни на есть настоящие, с мачтами и трубами над белоснежными бортами! Поезд все шел и шел на запад, а море все тянулось и тянулось слева, не позволяя оторвать от себя восторженного взора.
…А спустя несколько лет, уже студентом географического факультета Ленинградского пединститута имени Герцена, доучившись до долгожданных каникул, я приехал на Арал в свою первую самостоятельную научную экспедицию. Мой путь лежал в море, на Барсакельмес. Этот остров-заповедник представлялся в воображении аналогом недостижимого в те годы танзанийского кратера Нгоронгоро, переполненного всякой экзотической живностью. И хотя видовой ассортимент этой живности, встреченной на степном острове был не столь экзотичен, как в знойной жаркой Африке, Барсакельмес встретил меня под завязку забитым стадами таких редких степных копытных, как куланы, сайгаки и джейраны.
Тогда, в далеком (относительно отдельной жизни, конечно) 1976-м году, я провел на этом благословенном острове полтора месяца. Не худших в моей жизни. С тех пор я считал и остров, и море – «своими». И все это время ни минуты не сомневался, что обязательно вернусь сюда. Даже зная наперед то, что не застану уже больше тут ни моря, ни острова.
Возможность вернуться представилась лишь в недавнем времени. Как и тогда, Аральск встретил меня своим вокзалом, построенным еще в царской России, во времена строительства Оренбург-Ташкентской магистрали.
Аральск без Арала
Но вот парадокс, Аральск без Арала произвел на меня впечатление куда более отрадное, чем Аральск при море, тот, который я видел почти полвека назад. Исчезла суетность и нервозность портового города. Появились шелестящие тополя, ухоженные цветники и какая-то особая, свойственная южным городам респектабельность. Аральск стал степенней и философичней.
Ныне он вообще-то показался мне куда живей и зеленей, нежели четыре десятилетия назад. Понравились небольшие парки и скверы, которыми украсился городок. Во многих местах подымаются молодые деревца, цветет на клумбах трепетно-запашистая петунья. Видно, что это все – не формально. Этим занимаются. С этим – вошли во вкус.
Несмотря на то, что на некоторых домах Аральска по-прежнему виднелись предложения о продаже, эти молодые деревья давали надежду на то, что тот массовый исход жителей после исчезновения моря, по крайней мере, в тех масштабах, которые имели место на изломе тысячелетий – в прошлом. И, хотя в городе по-прежнему очень болезненный вопрос – чем занять выпускников 15 местных школ – похоже, что многие уже не стремятся всеми силами оставить родной Аральск.
…Днем, когда по раскаленным улицам знойный ветер метет горячий песок – пустыня ненадолго отвоевывает город у людей, восстанавливая свой статус-кво. Но по вечерам маленькие городские оазисы наполняются молодыми аральцами с детьми. И это – хороший знак для сдержанного оптимизма.
Песок на могилах
Однако есть тут место, где прошлое не отпускает. Это место, где трагедия Арала осязается до сих пор особенно ощутимо и остро, находится на дальней окраине Аральска. Несмотря на подступающие со всех сторон тихие барханы с кустами саксаула, жузгуна и тамарикса, тут, быть может, особо ясно слышится вкрадчивое эхо звуков почившего моря: накаты волн на берег, протяжные гудки пароходов, плеск падающих в воду якорей, грохот лебедок, выбирающих кишащие рыбой снасти, крики беснующихся чаек.

Это место – старое кладбище Аральска. Хотя оно называется «Русским», тут, среди сотен могил, можно найти таблички и с казахскими, и с корейским, и с немецкими, и даже с греческими фамилиями. Ведь по сути это кладбище – советское. И подавляющее большинство его тихих обитателей нашли упокой в те времена, когда и мертвые оставались такими же последовательными интернационалистами, какими были живые.

Изначально это старое аральское кладбище находилось вовсе не в пустыне. А недалеко от берега Синего моря, почти что у кромки воды. Но та вода давно ушла. Сегодня тут властвует песок. Памятники в песке. Оградки в песке. Кресты и звезды наверший, едва выглядывающие из песка. А сколько его, родного праха, навсегда оставленного разъехавшимися во все концы мира родственниками, уже безвозвратно затянуто чревом пустыни?

Это кладбище кануло в вечность вместе с морем. Недаром здесь столько надгробий в виде маяков. И столько памятников с якорями. Маяк – знак приближения берега. Якорь – символ покоя. Становясь на якорь, корабль обретает связь с землей, контакт с сушей. Якоря на могилах – это то, что навсегда привязывает душу моряка к родному берегу. Но есть ли такой мирный берег у тех, кто навечно упокоен на исчезнувшем берегу испарившегося моря?

Некрополи – по определению не место для радости. Недаром в древности на Руси их называли «жальниками». Но этот аральский погост печален вдвойне. Тут нет свежих захоронений. Тут сегодня не встретить обычных посетителей, приходящих оплакать своих близких и «поправить могилку». Печать забвения уже накрыла это обреченное кладбище своими непроницаемыми тенетами. Море исчезло, кому было куда – поуехали, в сегодняшнем Аральске уже не услышать русскую речь, казахи давно хоронят своих усопших в другом месте.

Меланхоличный верблюд «слизывает» цветы разросшегося на могилах жузгуна, искоса поглядывая на ржавеющие якоря, едва проглядывающие из песка. Священный жук-скарабей, так же как во времена обоготворивших его египтян, катает свое навозное «солнце» сквозь тень решеток. Юркие ящурки-круглоголовки, картинные агамы, пугливые зайцы – вот и все живые посетители этого печального приюта мертвых.

Морское кладбище посреди моря песка… Что может быть более нелепым, несообразным и вопиющим? Кому как, но для меня именно этот обреченный некрополь на краю Аральска (с якорями, якорными цепями и маяками), явил собой самый впечатляющий мемориал погибшему Аралу. Тому самому Синему морю, которому служили и которое любили те, чьи надгробья сегодня меланхолично и равнодушно поглощаются пустыней, а фамилии и фотографии на памятниках навсегда стираются песком и коррозией.

Андрей Михайлов-Заилийский. Писатель, автор дилогии «К западу от Востока. К востоку от Запада» и географического романа «Казахстан»
Фото автора